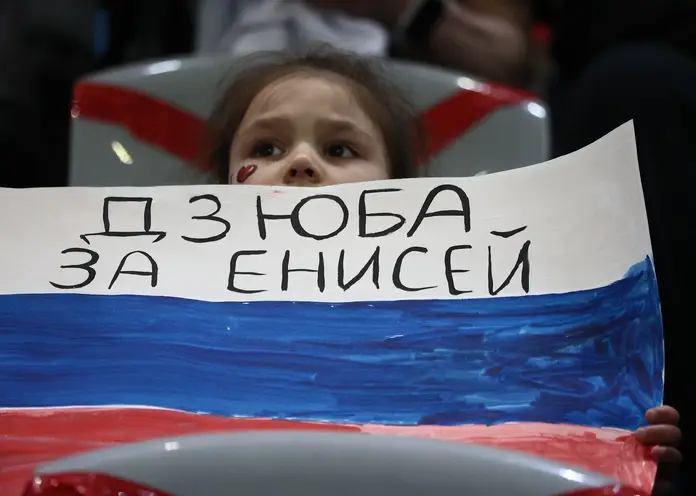Новости
Её звали Энгэси


На днях исполняется 120 лет со дня рождения Глафиры Макарьевны Василевич. Эту дату отмечают на всём сибирском Севере — в Эвенкии, Якутии, Бурятии, Иркутской и Амурской областях, в Забайкальском и Хабаровском краях, на Сахалине — везде, где живут российские эвенки; а также в Петербурге и других научных центрах, где работают этнографы, изучающие эвенкийский народ. Она — основоположник тунгусоведения как научной дисциплины.
“Женщина, которая подарила эвенкам письменность”, — называл её Алитет Николаевич Немтушкин, относившийся к Василевич с большой любовью и уважением. Она сыграла определяющую роль в его биографии. С бабушкой, воспитывавшей эвенкийского классика, она познакомилась ещё в 1926 году в одной из первых своих экспедиций на Нижнюю Тунгуску, жила у неё в чуме, а дядя Немтушкина Моисей учил её эвенкийскому языку. Приезжая на Катангу в 1940-е годы, она настойчиво рекомендовала маленькому Алитету учиться в Ленинграде, что он потом и сделал, а она была его вузовским преподавателем и первым редактором его стихов и рассказов. В принципе её вообще можно назвать основоположницей эвенкийской литературы. Когда в 1930 году был открыт Институт народов Севера в Ленинграде, она организовала там литературный кружок, из которого вышли все первые эвенкийские писатели, под её же редакцией вышел и первый сборник молодых литераторов-северян, а также десятки художественных и научно-популярных книг. Она сама переводила на эвенкийский язык и редактировала переводы эвенкийских писателей Пушкина, Алексея Толстого, Ленина, Сталина (Сталина, кстати, переводил будущий многолетний руководитель Эвенкии Василий Николаевич Увачан под её руководством). Она же переводила на русский язык эвенкийский фольклор — сказки, легенды, предания.
Она написала больше пятидесяти учебников для эвенкийских школ. Это по её учебникам маленькие эвенки в национальных школах учились читать и писать, изучали арифметику, географию, биологию. По её методическим рекомендациям — хотя она не была педагогом — преподавали первые эвенкийские учителя. Она написала пять эвенкийских словарей, с которыми и сейчас работают тунгусоведы. Она вместе со своими учениками-эвенками в Институте народов Севера разрабатывала эвенкийский алфавит и создавала письменность.
Она автор книг о культуре и быте северного народа — о тунгусском оленеводстве, охотничьих обрядах, одежде и жилище, кухне и традициях шаманов, детских играх и погребальных обрядах. Её историко-этнографическая концепция происхождения эвенков до сих пор определяет тунгусоведение, хотя все эти годы вызывает дискуссии в науке.
Василевич пользовалась невероятным уважением у сибирских аборигенов. Про “эвенку из Ленинграда” ходили легенды везде, где она бывала в экспедициях. “Красивая, смелая такая, шутница. Лучше эвенка по-нашему лопочет”, — говорили старики. Красноярский писатель, журналист и исследователь Севера, долго работавший в Эвенкии, Иван Иванович Суворов пятьдесят лет назад рассказывал в очерке “Большой друг и учитель эвенков”, как о ней говорили: “Вот это девушка была! Энгэси у неё имя теперь”. Энгэси (Энеси) по-эвенкийски значит “сильная”. Суворов писал, что имя “Энгэси” она получила после схватки с медведем. Эту же историю рассказывали и в Якутии, и в Хабаровском крае. Однажды она отстала от проводника и с карабином в руках решила переплыть таёжную речку, и тут на неё неожиданно напал медведь. Она не растерялась и одним выстрелом свалила хозяина тайги.
Она могла месяцами жить в лесу, передвигаясь верхом на оленях на сотни километров, ночевать в чуме или палатке, а то и просто у костра. Ни разу не заблудилась, по-тунгусски делая пальмой (это такой большой нож на древке) зарубки на деревьях, и всегда добиралась до нужного места. Питерская гимназистка, преподававшая немецкий, английский и французский языки, до 28 лет не имевшая никакого представления о Сибири, стала настоящей таёжницей. В экспедициях до войны она сама лихо справлялась с эвенкийской долбленой лодкой, карабином и охотничьим ножом. Потом, конечно, сказался возраст и лишения.
Биография у Глафиры Макарьевны была отнюдь не безоблачной. Бедное детство — в гимназию она попала исключительно из-за способностей, ей даже, как отличнице, платили общественную стипендию, с 14 лет начала работать, лишения гражданской войны, в Географический институт на факультет этнографии поступила довольно поздно, была старше некоторых преподавателей. В плодотворные 1930-е годы подвергалась гонениям, одного за другим арестовывали друзей и коллег — ленинградская этнографическая школа была разгромлена, её обвиняли в том, что она насаждает в среде студентов-северян национализм. Потом блокадный Ленинград, где у неё умерла от голода мать — единственный родной человек, и сама она была на грани смерти, от которой спасла эвакуация. В 1948 году после смерти Жданова в её жизни появились люди в гэбешных погонах — раскручивалось “ленинградское дело”. Вероятно, длительные экспедиции в Эвенкию и Якутию спасли тогда от ареста.
Но через три года люди в погонах опять постучались в дверь. 8 апреля 1952 года Глафира Василевич была арестована, три месяца длилось следствие. Обвинение, конечно, было абсурдным: “ …в период с 1930—1939 гг. и с 1946 по 1951 гг. в издаваемой учебной, художественной литературе на эвенкийском языке и научных статьях допускала искажения политического характера, протаскивала реакционные теории о языке, вульгаризировала в грубой натуралистической форме словари… клеветала на национальную политику КПСС и Советской власти”. В деле фигурировали написанный Василевич конспект сталинской статьи “Марксизм и национальный вопрос” и её письмо депутату Верховного Совета РСФСР от Якутской АССР, к которому она обращалась по поводу бедственного положения эвенков на юге Якутии. Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда признала её виновной по зловещей статье УК РСФСР 58-10, ч. 1 и приговорила к лишению свободы на десять лет с поражением в правах на пять лет и лишением государственных наград — медалей “За оборону Ленинграда” и “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”.
Затем лагерь в Пермской (тогда Молотовской) области. Через три недели после смерти Сталина была объявлена “бериевская амнистия”, Глафира Василевич попадала под Указ — освобождались и политические, осуждённые в начале 1950-х, — но почему-то её оставили в лагере. Ещё долгих 27 месяцев пришлось томительно ждать и надеяться. Только 30 июня 1955 года вышло Постановление Верховного Совета РСФСР — “снизить срок до пяти лет лишения свободы и освободить по Указу от 27.03.1953 “Об амнистии”. Глафира Макарьевна была освобождена не по реабилитирующим обстоятельствам, считалась судимой (реабилитировали её только в 1993 году посмертно). Это сказывалось и на её работе. Не известно, по какой причине, но ей резко понизили статус в официальной науке. Может быть, и из-за судимости. Если до ареста она считалась корифеем в этнографии и особенно языкознании, то после выхода на свободу официально стала рядовым исследователем. Таким критерием в те времена считалось “попадание” в Большую советскую энциклопедию или хотя бы отраслевую.
Это по её учебникам маленькие эвенки в национальных школах учились читать и писать, изучали арифметику, географию, биологию. По её методическим рекомендациям — хотя она не была педагогом — преподавали первые эвенкийские учителя.
В 1951 году за несколько месяцев до ареста Василевич вышел 7-й том БСЭ второго издания, там была статья о Глафире Макарьевне: “русский советский этнограф и языковед; специалист по языку эвенков… с целью изучения быта эвенков, говоров и собирания лексики с 1923-го по 1948 год провела 9 научных экспедиций на советский Север, в необследованные районы, населённые эвенками. В результате были созданы первые эвенкийские словари. Начиная с 1920 года, Василевич опубликовала более 50 книг — первых учебников для эвенкийских школ и пособий для учителей, а также ряд статей по этнографии. Ею сделаны первые переводы русской общественно-политической и художественной литературы на эвенкийский язык”. Статья, как видно, небольшая, но многого стоила — открывала двери издательств и т.д. Однако ни в Советской исторической энциклопедии, выходившей при её жизни, ни в третьем издании БСЭ, вышедшем после её смерти, статей о Василевич уже нет.
Между тем основные научные труды Глафиры Макарьевны появились как раз в последние годы, она переключилась с языкознания на историческую этнографию. В 1969 году после долгих проволочек, рукопись лежала почти семь лет, был опубликован главный труд её жизни — монография “Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII—XX вв.)”. Но эта выдающаяся работа вышла в искорёженном виде, сильно была искажена историческая часть и вообще выброшена глава про современное положение эвенков. Книга вызвала массу восторгов в научной среде, но и критику. В частности, другой выдающийся учёный-этнограф Борис Осипович Долгих, тоже сиделец, сидел у нас в крае, потом работал в краеведческом музее, выступил с замечаниями. Но критиковал он как раз ту часть монографии, которая была сильно искажена издательством. До сих пор “Эвенки” в первоначальном виде не опубликованы, как не опубликованы и многие другие работы Василевич, в том числе и материалы по Красноярскому краю.
Глафира Макарьевна умерла в 1971 году после тяжёлой болезни. Память о ней чтут и сибирские автохтоны, и все североведы. Её именем названа эвенкийская школа-интернат в Якутии, есть в Якутии и государственная премия имени Г.М. Василевич “за вклад в сохранение и развитие эвенкийского языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера”, проходят выставки и конференции в библиотеках, музеях и университетах. Будут они и в эти дни, и у нас в Эвенкии тоже. Будут вспоминать эту замечательную женщину по имени Энгэси.